Новое на сайте Священник Георгий Чистяков
Перечитывая заново мировую культуру Выступление о.Георгия на вечере памяти о. Александра Меня, 22.01.2000 г
Архиепископ МИХАИЛ (Мудьюгин) о протоиерее Александре Мене
Об архиепископе Михаиле:
ещё http://www.bogoslov.ru/text/777869.html
ИОАННА
(Рейтлингер Юлия Николаевна; 1898, С.-Петербург - 1988, Ташкент), инокиня; принадлежала к числу ярких мастеров иконописи XX в. рус. зарубежья. Род. в семье обрусевших нем. баронов Рейтлингеров. Отец Николай Александрович, экономист по образованию, активно интересовался духовно-религ. исканиями нач. XX в. Мать Лидия Николаевна (урожд. Гонецкая) воспитывала 4 дочерей в атмосфере религиозности. И. вспоминала о посещении служб в «небольшой домовой церкви при Музее Александра III (ныне ГРМ.- Ред.), в которую попадать надо было какими-то длинными коридорами с чудесным запахом масляных красок,- там же первая исповедь, первое говенье на Страстной неделе».Обнаружившая способности к живописи Рейтлингер по окончании 8 классов гимназии в 1916 г. была определена в «4-й (головной) класс школы Общества поощрения художеств (минуя скучные гипсы)», через полгода ее перевели в 5-й и к весне - в 6-й класс. Т. о., систематическое начальное художественное образование, прерванное революцией в России в 1917 г., свелось к году обучения. Стремительное продвижение от класса к классу было возможно благодаря успехам Рейтлингер в живописи.
Летом 1917 г. сестры Рейтлингер уехали в Крым, позднее к ним присоединились родители. В 1918 г. в Крыму состоялось знакомство Рейтлингер с ее буд. духовным наставником свящ. Сергием Булгаковым, к-рого она сопровождала до конца его дней († 1944). В крымский период, несмотря на голод, на смерть от тифа 2 старших сестер и матери, Рейтлингер продолжала занятия рисованием. В 1921 г. Юлия и Екатерина выехали из Крыма к отцу в Польшу. Сохранилось неск. рисунков варшавского периода, все остро трагического звучания, скованные по манере исполнения. В 1922 г. благодаря помощи Нины Александровны Струве сестры, а затем их отец переехали в Прагу, ставшую одним из центров рус. эмиграции 20-х гг. Рейтлингер поступила в Карлов ун-т, слушала лекции акад. Н. П. Кондакова, стала студенткой Пражской АХ, посещала христ. кружки свящ. Сергия Булгакова и проф. В. В. Зеньковского, участвовала в Русском христианском студенческом движении. В Праге наступил перелом в ее духовных и художественных исканиях и получил развитие наметившийся еще в Крыму интерес к древнерус. и визант. искусству. Одновременно с изучением иконографии шло обучение «ремеслу древнего иконописания» на основе «секретов», заимствованных из старообрядческой практики. Интересы и вкусы Рейтлингер соответствовали идеям о возрождении русских национальных (собственно православных) традиций, популярных в художественных кругах от Кондакова, В. М. Васнецова до Н. К. Рериха, Н. С. Гончаровой и К. С. Малевича. Этюды и акварели Рейтлингер пражского периода свидетельствуют не только о возросшем мастерстве, но и о более мажорном, «благополучном» восприятии художницей окружающего мира. Несмотря на то что первые иконописные работы Рейтлингер называла неудачными, в 1924 г. она написала «главу св. Иоанна Предтечи по наброскам с натуры - с отдыхающего отца Сергия» (в наст. время икона находится в храме Казанского скита в Муазне, близ Парижа, где И. работала в 1938). Духовную поддержку Рейтлингер оказывал свящ. Сергий Булгаков, с энтузиазмом воспринявший ее вхождение в сферу религиозного творчества, но провидивший нападки на художницу в связи с ее отходом от внешне привычных каноничных норм. Обращение в 1-й иконописной работе к образу св. Иоанна Предтечи, впосл. ее небесного покровителя, оказалось символичным. Привезенная в Париж «портретная» икона стала этапной в судьбе художницы. Рейтлингер поступила в мастерскую (Ateliers d'arts sacré) религ. худож.-монументалиста М. Дени и в течение неск. лет прошла полный курс обучения (она поддерживала отношения со своим учителем и позднее; их переписка хранится в архиве Музея М. Дени в Сен-Жермен-ан-Ле). Появление Рейтлингер в 1925 г. в Париже связано с назначением свящ. Сергия Булгакова по инициативе митр. Евлогия (Георгиевского) инспектором Свято-Сергиевского православного богословского ин-та. Для Рейтлингер программным стало стремление к «живой» иконе, соединившей каноничный подход к иконографии, живость пластического языка и художественные новации. Графические листы предшествующего периода свидетельствуют о ее увлечении эстетикой «Мира искусства» и романтическими образами европ. средневековья. Для рисунков 20-х гг. характерно умелое построение композиции, животные приобретают некую одухотворенность и обаяние. Впосл. одним из любимых сюжетов художницы стала композиция «Всякое дыхание да хвалит Господа».
Стремление к возрождению традиций рус. религ. искусства в новых условиях свелось к противостоянию с формальным исполнением старообрядческих икон и с популярной в нач. XX в. эстетикой модерна. Технология иконописи осваивалась Рейтлингер недолго и недостаточно. Из-за несовпадения взглядов на совр. («живую») икону и на пути ее развития художнице не были близки большинство членов парижского об-ва «Икона». Впрочем, на представление Рейтлингер о задачах современного иконописания повлияло знакомство с ведущим представителем модерна в Париже Д. С. Стеллецким, но творчество художника не стало для нее определяющим. Переломным моментом в осмыслении искусства иконописи, как для Рейтлингер, так и для большинства деятелей культуры русского зарубежья, явилась передвижная выставка вновь открытых произведений иконописи XII-XVII вв., экспонировавшаяся в 1929-1930 гг. в крупнейших городах Европы и США. Особое впечатление на Рейтлингер помимо шедевров произвели «научные копии» Владимирской иконы Божией Матери работы Е. И. Брягина (ныне в собрании В. А. Бондаренко, Москва) и «Св. Троицы» прп. Андрея Рублёва работы Г. О. Чирикова. В 1931 г. в Париже вышла кн. «Икона и иконопочитание» свящ. Сергия Булгакова с размышлениями о принципах соотношения в иконописи содержания и формы, функции к-рой сводятся к «обличению вещей невидимых»; книга во многом повлияла на творчество Рейтлингер. В отказе от следования «прорисям» и в преобладании «сочинительства» в рамках канона она выступает как представитель скорее новоевропейской, а не традиционно иконописной формации. В этом проявилось и воздействие атмосферы мастерской Дени, где она училась.
В 20-30-х гг. Рейтлингер сделала множество подготовительных рисунков и набросков и написала цикл портретов свящ. Сергия Булгакова (большая часть графического наследия хранится в б-ке-фонде «Русское Зарубежье» и в ЦМиАР). Иконы этого периода получили высокую оценку, в т. ч. и в прессе. В 1931-1932 гг. по инициативе свящ. Андрея Сергеенко она оформила ц. св. Иоанна Воина (бывш. барак) в Мёдоне под Парижем. Ей помогали ее сестра (в замужестве Кист) и Е. Я. Браславская (в замужестве Ведерникова; известна иконописными работами после возвращения из эмиграции). Росписи исполнены темперой по грунтованной фанере (сохранившиеся после пожара части находятся в б-ке-фонде «Русское Зарубежье»). Главными в программе украшения церкви стали циклы «Небесная литургия» и «Апокалипсис»; роспись открывается сценами «Рай» и «Изгнание из рая», далее следуют традиц. по составу двунадесятые праздники и фигуры святых. В процессе работы Рейтлингер обращалась к широкому кругу иконографических источников - от визант. рукописей, хранящихся в Ватиканском собрании, и фресок Димитриевского собора во Владимире кон. XII в. до росписей храмов Ярославля и Москвы XVII в., а также ц. Богоматери Перивлепты в Мистре 3-й четв. XIV в. Автору удалось достичь свободы в интерпретации иконографии (при этом вполне каноничной) и художественных образов, для к-рых характерны экспрессия и подвижность. Нек-рые элементы росписи напоминают работы Н. С. Гончаровой и даже Поля Гогена с его трактовкой таитянского «рая», природы и экзотического животного мира. При всей разнородности источников росписи церкви в Мёдоне относятся к явлениям правосл. искусства Новейшего времени. Для этой церкви было написано неск. икон, среди них широкую известность получил храмовый образ «Не рыдай Мене, Мати» (утрачен); в дальнейшем Рейтлингер неоднократно возвращалась к этому сюжету. Она много и плодотворно работала, сотрудничая с мон. Григорием (Кругом) и с мон. Марией (Кузьминой-Караваевой). Для мон. Марии Рейтлингер нередко делала подготовительные рисунки - чаще всего «личного письма» - для изделий церковного шитья (их совместное творчество, шитье мон. Марии и иконопись Рейтлингер, сохр., напр., в Покровской ц. на ул. Лурмель в Париже).
Переломным моментом в жизни Рейтлингер явился постриг в рясофор с именем Иоанна, совершенный в Париже 11 сент. 1935 г. митр. Евлогием. Это событие способствовало духовному сосредоточению И., направленному в т. ч. на осмысление творческого процесса. Работы И. стилистически неоднородны: от традиц. манеры до следования примитиву, от использования привычного тематического репертуара до осваивания западноевроп. тематики («Жанна д'Арк», «Св. мученица Бландина, со сценами жития и святыми на полях» - обе в частном собрании, Париж; появление последнего образа, возможно, обусловлено дружбой с кнг. А. В. Оболенской, принявшей при постриге имя этой католич. святой). И. писала многочисленные небольшие иконки преподобных Герасима Иорданского, Сергия Радонежского, Серафима Саровского. Независимо от размеров большинство работ И. отличается тяготением к масштабности, монументализацией форм и образов, повышенной экспрессивностью. Особо выделяются небольшой иконостас и алтарные иконы в храме Казанского скита в Муазне (1938), написанные под влиянием традиций византийской живописи XIII-XIV вв.; в работах 30-х гг. XX в. заметны черты произведений рус. искусства XV-XVI вв. (картон с запрестольным панно «История Адама и Евы» во Введенской ц. на ул. Оливье-де-Сер в Париже, 1937); на произведения позднего периода повлияло увлечение И. раннехристианским искусством: росписями катакомб, мозаиками римских и равеннских храмов.
Главными произведениями И. позднего зарубежного периода стали работы в часовне свт. Василия Великого в доме Содружества св. Албания и прп. Сергия Радонежского в Лондоне (1945-1947). Содержание росписей перекликается с трудами умершего к тому времени свящ. Сергия Булгакова. Росписи отличают масштабность и устойчивое для творчества И. внимание к апокалиптической теме. В сохранившихся машинописных комментариях (датированы 29 апр. 1949, частный архив) автора к росписям излагается программа художественного замысла: «Общая тема росписи - Церковь. Ее история как бы в двух планах… Нижний - видимая… представлена соборами исторических церквей; верхний иллюстрирует видение Иоанна (Апокалипсис), которое… рассказывает историю Церкви, идущую в метафизическом плане». Роспись часовни выдержана в классических формах произведений сходной тематики, элементы художественной и религиозной эстетики XX в. выражены через очищенные, аскетические черты, экспрессию образов, обостренное восприятие колорита росписей. Лондонский ансамбль - одна из вершин правосл. искусства на Западе, И. как автор росписей вошла в число художников «большого стиля» 30-40-х гг. XX в.
Перед оформлением документов для возвращения из эмиграции И. в 1947 г. переехала в Чехословакию к сестре. От этого периода сохранился образ с Деисусом, с Распятием и со сценами из Жития св. Прокопия Сазавского для алтаря храма святых Кирилла и Мефодия на Рессловой ул. в Праге.
В 1955 г. И., вернувшейся из эмиграции в СССР, разрешили жить в Ташкенте; средства к существованию она зарабатывала, расписывая шелковые платки. После оформления пенсии она часто и подолгу бывала в Москве. Вернувшаяся из эмиграции Ведерникова способствовала тому, чтобы И. вновь занялась иконописанием. В записях последних лет И. отмечала, что понемногу начинала «дышать забытым воздухом: Ведерниковы, книги, встречи с чудесной новой молодежью». «Я возвращаюсь,- писала она,- в Отчий дом, исповедуюсь и причащаюсь у о. Андрея Сергиенко… и 15-20 лет работаю над иконой, больше чем когда-либо в жизни. Наконец, это знакомство с о. Александром Менем как будто послано мне о. Сергием [Булгаковым]».
Создание икон в обстановке религ. гонений в СССР в 60-70-х гг. было подвигом. И. писала иконы бесплатно, посылала их почтой из Ташкента (часто в коробках из-под конфет), называла в письмах «просьбами» и «подарками» (переписка с о. Александром Менем за 1974-1987). В этот период скромного существования И. часто создавала небольшие образки на кусочках фанеры и прессованного картона, грунт заменял зубной порошок; они были лаконичны, просты по форме и манере исполнения; этот стиль был близок к аскетическим идеалам монашеского искусства. Несмотря на камерность изображений, образы получались монументально величественными, искренними. Сохранилась тематическая связь с предшествующим периодом («Царь Давид во рву львином», преподобные Герасим Иорданский, Сергий Радонежский и Серафим Саровский, «Всякое дыхание да хвалит Господа»). Одна из лучших работ позднего времени - группа икон на тему Тайной вечери (все в частных собраниях). В последние годы жизни И. к ее хронической глухоте прибавилась слепота, лишившая возможности работать.
https://vc.ru/n/ya-slovari-close
и вот почему.
на яндекс -словарях был размещён Библиологический словарь священномученика Александра Меня.
не знаю, есть ли он ещё где в интернете, что б были гипер-ссылки между статьями...
может, есть где?
никто не знает?
вот как это, к примеру, выглядит на сегодняшний день:
Иоанн Кассиан Римлянин
Никодим Святогорец
Симеон Новый Богослов
( Read more... )
но с косяками (некоторые ссылки не туда).
Да и по первой ссылке некоторые ссылки кривоваты..
Ну, может кто сделает хорошо красиво.
Вообще, на сегодня, такой сайт Александра Меня, как сайт Фонда Меня - это просто позор.
Михаил Александрович, выделите денег!
Пусть сделают нормальный и современный!!
UPD под катом. Есть словарь!

протоиерей Александр Мень
Из книги «Навстречу Христу»: Издательский дом «Жизнь с Богом»; Москва; 2009
ПОЭЗИЯ СВ. ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА
Богослов и его великие со— учители Церкви,борцы за Православие, пастыри, писатели, литургис–ты, подвижники — оставили великое литературное наследство, ставшее одним из краеугольных камней христианской культуры. Св. Григорий Богослов выделяется еще тем, что явился, наряду со св. Ефремом Сирином, одним из основателей христианской поэзии. Не только его многочисленные стихи, но и большинство проповедей представляют собой высокопоэтические произведения. Общеизвестно, что многие наши рождественские и пасхальные песнопения построены на основе его праздничных речей («Христос раждает–ся», «Воскресения день»).
Эпоху, к которой принадлежал св. Григорий, нередко называют «золотым веком христианства». Молодая Церковь, закаленная трехвековой борьбой с язычеством, получила благодаря Миланскому эдикту возможность пользоваться многими льготами и правами. Но здесь был не конец, а начало испытаний. Языческое общество принесло в христианскую среду свои пороки, обычаи, предрассудки. В Церковь стали приходить люди, движимые не столько верой, сколько стремлением угодить императору и общественному мнению. В результате понизился общий духовно–нравственный уровень христианских масс. Именно в такие периоды происходят колебания в сфере догматической, в сфере вероучения. Идеи античных философов и восточных мыслителей не только помогали богословам в уяснении догматических истин, но и стали порождать различные уклонения, выражавшиеся в форме ересей.
Из последних наибольшую роль сыграло арианство. Это учение упрощало, обедняло и искажало самую сущность христианства, фактически отрицая Боговоплощение, то есть новый завет неба и земли, основанный Иисусом Христом, неправильно понимая Триединство Бога. Вряд ли сам Арий отчетливо сознавал, каково было значение Христа и Его явления на земле; но основная мысль арианства — невозможность Богочеловечества, то есть реального и живого единства Бога и человека — имела успех потому, что была проще для понимания. Мысль эта жила впоследствии во всех крупных ересях (несторианстве, монофизитстве, монофелитстве и др.).
Церковь в лице Первого Вселенского Собора (325 г.) бесповоротно осудила арианство, и в созданном тогда Символе веры Спаситель был назван «Единосущным» Богу, то есть равным с Ним в Сущности. Это было торжество идеи Боговоплощения.
Но вскоре римские императоры стали поощрять ересь. Православных епископов начали принуждать подписывать арианские символы. Несогласных арестовывали и ссылали. временами могло казаться, что дело Православия защищали только св. Афанасий Великий и монахи, которые в это время начали селиться в египетских пустынях. Св. Афанасий знал, что истина не зависит от числа приверженцев той или иной стороны. Он смело шел один против всех, отстаивая Православие.
Когда умер св. Афанасий (373 г.), знамя Православия на Востоке перешло в руки св. Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Этот святитель все свои силы и разносторонние дарования отдал делу борьбы за единство Церкви и защите ее интересов против ариан. Мечтой св. Василия, по его словам, было «всю Церковь под солнцем собрать воедино». Но этому особенно препятствовали разнообразные раскольники. И вот на помощь Василию Великому спешит его друг — Григорий Богослов. К сожалению, св. Василий не смог по–настоящему воспользоваться этой помощью. Он поставил св. Григория епископом, что вначале не только не принесло пользы, но привело к печальному недоразумению между друзьями. Однако с этого момента св. Григорий вступил на трудное поприще церковно–общественной жизни.
***
( Read more... )Иисус Христос - Сын Человеческий (новый документальный фильм).
Принимает участие священник Георгий Чистяков
Этот фильм - экранизация известного труда священномученика Александра Меня "Сын человеческий". Мастер документального кино Борис Дворкин решил сделать книгу видимой и рассказать не только о евангельских событиях, но и их предыстории... Большая часть общества сегодня мало читает, а больше смотрит. Просмотр данного фильма поможет узнать евангельскую весть в ее историческом контексте и вневременной значимости. Фильм наполнен богатым изобразительным материалом, живописными работами на евангельские темы самых разных мастеров. В фильме участвуют известные священники: о. Георгий Чистяков и о. Петр Мещаринов. В создании фильма принимали участие и христиане, увлеченные историей костюма. Они показали, как одевались современники Христа. Также зритель увидит древнейшую рукопись Нового Завета и съемки мест, где жил и учил Сын Человеческий.
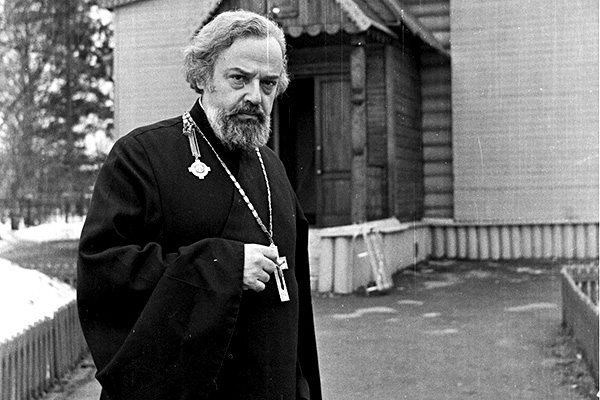
Andrei Roman Bessmertny-Anzimirov пишет:
ПАМЯТИ ОТЦА АЛЕКСАНДРА МЕНЯ
(22 января – день его рождения)
"Меня спросили, почему убили отца Александра Меня.. Его убили, потому что он был по-настоящему гуманным и подлинным человеком, невероятно деятельным и творческим. И при этом НЕ ЗАНИМАЛСЯ ПОЛИТИКОЙ - только проповедью Христа и единства всех религий в любви. Но отца Глеба Якунина негласно поддерживал – он отца Глеба в юности и обратил. И действовал так, как будто коммунистов просто не было. Он бывало говаривал: «Это наша страна, это не их страна». И действовал соответственно. Писал книги. МНОГО. Талантливо. Его печатали под псевдонимами за рубежом. Пропагандировал труды русского и украинского (а это что за зверь?! урв - прим. tapirr) религиозного возрождения 20 века. Их распространяли. Организовал ещё в советские времена, начиная с самого начала 1970х годов сеть подпольных кружков по изучению Библии, истории церкви, святых отцов, западного богословия, церковной службы, группы общей молитвы. Его духовные дети много переводили с европейских языков в религиозный самиздат и тамиздат, мы постоянно сотрудничали под псевдонимами с парижским «Вестником РХД» Никиты Струве.
К нам в гости приезжали священники из Американской православной церкви, священники и монахи из французских католиков и читали нам фантастически интересные спецкурсы по богословию и особенно по библеистике, Ветхому Завету, изучению Евангелия. Много лет постоянно действовали группы катехизации, т.е. по подготовке ВЗРОСЛЫХ новокрещаемых. Кое-что из этого стало известно КГБ только в 1983-84 году. Посадили двоих, готовили большое дело – но наступила Перестройка.
Тогда его просто убили. На его фоне ВОРУЮЩАЯ ЦЕРКОВЬ НЕ МОГЛА БЫ СУЩЕСТВОВАТЬ. На его похоронах сами по себе, без приглашения приехали не только православные, но и мусульмане, иудеи, старообрядцы, католики, пятидесятники, баптисты! ОТЕЦ АЛЕКСАНДР МЕНЬ БЫЛ ОБРЕЧЁН.
Россия, выражаясь церковнославянским языком, его попросту изблевала из себя. НЕ ВЫНЕСЛА. Слишком черна.
Я думаю, что он был САМЫМ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ДЕЯТЕЛЕМ ПРАВОСЛАВИЯ 20 ВЕКА. Т.е. намного значительнее оо. Иоанна Кронштадтского, Сергия Булгакова и Павла Флоренского, если назвать только некоторых. При всём моём к ним уважении (кроме Флоренского – я его недолюбливаю).
**
Другой материал.
От Андрея Платонова (бывшего дьякона)
Бурная монашеская жизнь. Наш Джеймс Бонд.
( Read more... )
**

Материал № 3
https://lenta.ru/articles/2015/09/09/meny/

Сегодня праздник -
не только день памяти святого митрополита Филиппа,убитого по приказу нечестивого царя Ивана Грозного,
но и день рождения убитого за проповедь веры во Христа протоиерея Александра Меня.
21 января 2016 г. в 18-30 в Библиотеке иностранной литературы (ул. Николо-Ямская, д. 1. метро «Таганская») состоялся вечер памяти о. Александра Меня, посвященный дню его рождения (22 января 1935 г.).
10:00 Божественная Литургия в Сергиевском храме
13:00 Открытие выставки «Ко Дню рождения протоиерея Александра Меня»
13:30 Презентация книги протоиерея Димитрия Предеина «Протоиерей Александр Мень как выдающийся православный катехизатор и миссионер второй половины XX века»
16:00 Концерт с участием Елены Камбуровой, Сергея Юрского и Александра Вершинина
( Read more... )Вход свободный, однако на концерт необходимо забронировать место по телефону 8 (496) 545-75-75 или через сервис электронных билетов dubrava.timepad.ru.
Я почитаю священномученика Александра Меня не просто за апостола (это-то очевидно), но за пророка.
Апостолом может быть любой христианин , возвещающий то, во что он верит (то, что сказано в Евангелии)
Пророк же - тот, через кого Бог особо и специально возвещает то новое, что мир должен услышать в те или иную эпоху.
it
Интервью Нильса Кристиана Хвидта (1) с Кардиналом Йозефом Ратцингером. Кардинал расскaзывает о том, что такое пророчество, как отличить ложное пророчество от истинного, повествует о многовековом опыте Католической Церкви в данном вопросе, приводя различные примеры.
«Пророческий импульс не может прийти без соответственного страдания. Призвание пророка, в определенном смысле, - подражание страданию: он должен быть готов страдать, и участие в страданиях Христа, разделение с Ним Его креста, есть подлинное мерило пророческого призвания», — утверждает Йозеф Ратцингер.
Проблема христианского пророчества
 В сознании многих богословов слово "пророчество" ассоциируется с Ветхим Заветом, Иоанном Крестителем или же с пророческим аспектом Учения Церкви. Сама Церковь очень редко обращается к теме пророчеств. Церковная история наполнена фигурами пророков, многие из которых до сегодняшнего времени не канонизированы, хотя при жизни они возвещали Слово, Слово не свое, но Божье.
В сознании многих богословов слово "пророчество" ассоциируется с Ветхим Заветом, Иоанном Крестителем или же с пророческим аспектом Учения Церкви. Сама Церковь очень редко обращается к теме пророчеств. Церковная история наполнена фигурами пророков, многие из которых до сегодняшнего времени не канонизированы, хотя при жизни они возвещали Слово, Слово не свое, но Божье.
Никогда не существовало некоего систематизированного мнения по поводу феномена пророчеств, относительно того, что отличает пророчествующих от представителей официальной институциональной Церкви, и как слово, открывающееся через пророчества, соотносится со Словом, открывающимся в Христе и донесенным до нас апостолами. Богословие Христианского пророчества никогда не было в полной мере разработано. На самом деле существует всего несколько исследований по этой проблематике (2).
Кардинал Йозеф Ратцингер обратился к понятию Откровения очень давно, еще в самом начале своих трудов на стезе богословия, и исследовал его достаточно глубоко. Тезис его работы на соискание научной степени "Die Geschichtstheologie des hl. Bonaventura" (Теология истории Святого Бонавентуры) (3) носил столь новаторский характер для своего времени, что был сразу же отвергнут (4). В тот момент Откровение все еще воспринималось как набор божественных указаний. Главным образом его рассматривали как рациональную отрасль знания. Однако в своем изыскании Ратцингер установил, что, по мнению Бонавентуры, Откровение отсылает нас к деяниям Бога в истории, в ходе которой с истины постепенно спадает завеса тайны. Откровение - есть постоянное возрастание Церкви в полноте Логоса (5).
Эта работа была принята только после того, как подверглась серьезным сокращениям и переработке. С тех пор Ратцингер неустанно разрабатывал и обосновывал динамическое понимание Откровения, в свете которого "Слово (Христос) всегда больше, чем любое другое слово, и ни одно другое слово никогда не сможет полностью выразить его. На самом деле слова обладают своей частью в неиссякаемой полноте Слова. Благодаря Слову они открываются и с каждым новым поколением людей умножаются" (6).
Любое богословское определение Христианского пророчества может быть выведено только в контексте этой динамической концепции Откровения. Не далее чем в 1993 году кардинал Ратцингер заявил, что "насущно необходимо всестороннее исследование, которое установило бы, что означает быть пророком" (7). И именно поэтому мы попросили кардинала о встрече, чтобы обсудить тему Христианского пророчества.
Откровение в Ветхом Завете - это, по сути, слово пророка, выступающего с критикой в адрес истории Израиля, сопровождающее Израиль на всем его пути. Что, по-вашему, представляет собой пророчество в жизни Церкви?
ЙОЗЕФ РАТЦИНГЕР: Прежде всего, давайте остановимся на секунду на пророчестве в Ветхом Завете. Чтобы избежать любого непонимания, необходимо четко установить, кто в действительности является пророком. Пророк - это не вещун и не гадатель. Сущностным элементом пророчества является не предсказание будущих событий; пророк - это некто, говорящий истину, вдохновляемый на это своей связью с Богом; некто, произносящий истину, ценную для сегодняшнего дня, которая также, естественно, проливает свет на будущее. Ее предметом не является предсказание будущего в деталях, но возвещение Божьей истины, явленной в данный момент, и указание нам верного пути. В случае с Израилем, раз уж мы его коснулись, слово пророка имеет особую функцию в том смысле, что вера в сущности своей понимается как надежда на Грядущего. Ибо слово веры - это всегда реализация веры, главным образом, в структуре надежды. Слово веры увлекает надежду и поддерживает в ней жизнь. Не менее важно подчеркнуть, что пророк - это не тот, кто получает апокалипсические откровения, хотя зачастую так кажется. В сущности же, пророк не описывает последние времена, а помогает нам понять веру и жить в вере, вере как надежде. Даже если в настоящий момент пророк должен провозглашать Слово Бога так, как если бы оно было подобно мечу острому, он не обязательно обрушивается с критикой на установленный культ и учреждения. Его призвание и обязанность - противостоять в этом мире непониманию и ложному толкованию Слова и учреждений, открывая во все времена угодное Богу; однако было бы неверно представлять Ветхий Завет как полемическое противостояние пророчеств и Закона. Поскольку и то и другое исходит от Бога, значит, и то и другое наделено пророческое функцией. На мой взгляд, это очень важный момент, потому что он приводит нас к Новому Завету. В конце Второзакония Моисей предстает как пророк, он сам себя так позиционирует. Он говорит Израилю: "Бог пошлет тебе пророка, подобного мне". Что означает "пророк, подобный мне"? Опять же во Второзаконии - и мне кажется, что это решающий момент - особенность Моисея заключается в том, что он говорит с Богом, как с другом (8). Я усматриваю узловую компоненту или корни пророческого элемента в этом нахождении "лицом к лицу" с Богом, в "разговоре с ним, как с другом". Только благодатью этого прямого общения с Богом пророк может говорить в тот или иной момент.
Как концепция пророчества может быть соотнесена с Христом? Можно ли назвать Христа пророком?
РАТЦИНГЕР: Отцы Церкви понимали приведенное выше пророчество Второзакония как обетование грядущего Христа, и я с этим согласен. Моисей говорит: "Пророк, подобный мне". Он передает Слово Израилю, и Слово становится человеком; этим своим пребыванием "лицом к лицу" с Богом он исполняет свою миссию, направляя людей к встрече с Богом. Все прочие пророки пребывают в служении этому пророчеству и всегда должны вновь и вновь вызволять Закон из пут закоснелости и вновь претворять его в дорогу жизни. Истинный и величайший Моисей, таким образом, это сам Христос, Тот, Кто действительно обитает "лицом к лицу" с Богом, ибо он Его Сын. В этой связи между Второзаконием и явлением Христа мы можем разглядеть один момент, крайне важный для понимания единства двух Заветов. Христос есть подлинный истинный Моисей, как Сын действительно живущий "лицом к лицу" с Богом. Он более не просто направляет нас к Богу через Слово и заповеди, а своей жизнью и страданиями приводит нас к Нему и Своим воплощением претворяет нас в Тело Христово. Это означает, что пророчество также явно представлено в Новом Завете. Если Христос, будучи Сыном, есть подлинный пророк, значит Христологическо-пророческий аспект также входит в Новый Завет по причине общинного бытия с Сыном.
По-вашему, как это конкретно проявляется в Новом Завете? Не положила ли смерть последнего апостола окончательный конец дальнейшим претензиям на присутствие в Церкви пророчеств, исключив любую подобную возможность?
РАТЦИНГЕР: Да, существует утверждение, что исполнение Откровения (Прим. пер.: Откровение Св. Иоанна Богослова) обозначило окончание всех пророчеств. Думаю, в этот тезисе кроется двойное непонимание. Во-первых, он содержит идею о том, что пророк, который, по сути своей, связан с аспектом надежды, отныне лишен всяческих своих функций, ибо теперь Христос с нами, и потому надежда уступила место Божьему присутствию. Это ошибка, потому что Христос пришел во плоти, а затем восстал вновь "в Духе Святом". Это новое присутствие Христа в истории, в таинстве, в мире, в жизни Церкви, в сердце каждого человека - есть выражение и начало истинного пришествия Христа, "наполняющего все" (9). Это означает, что Христианство в своем внутреннем движении всегда обращено к Господу грядущему. Так происходит и сейчас, хотя и в новых формах, ибо Христос уже здесь. Однако несущей опорой в конструкции Христианства всегда являлась надежда. Евхаристия всегда понималась как наше движение к пришедшему Господу. Таким образом в этом таинстве воплощается единая Церковь. Представление, будто Христианство уже предполагает полное и совершенное Божье присутствие и что оно не содержит никакого структурного элемента, основанного на надежде, - есть первая ошибка, которую следует отбросить. Новый Завет несет в себе элемент надежды, отличный от прежнего, но надежда всегда остается фундаментальным элементом. Для нового Народа Божьего существенным является требование быть служителями надежды. Второй момент, обнаруживающий непонимание, состоит в принижающем интеллектуальном понимании Откровения как бесценных фрагментов переданного нам знания, совершенно полного, к которому ничего не может быть добавлено. Подлинный момент Откровения заключается в том факте, что мы предстаем именно "лицом к лицу" с Богом. В сущности, Откровение - это Бог, преподающий Себя нам, созидающий историю вместе с нами, объединяющий, собирающий всех нас вместе. Это расширение общения, обладающего как природным коммуникативным измерением, так и когнитивной структурой. В нем также заключены предпосылки для познания истины Откровения. Надлежащим образом понятое Откровение достигает своей цели с Христом, потому что, как прекрасно сказал Св. Иоанн Креста (Прим. пер.: Св. Хуан де ла Крус, католический святой и мистик, учитель Церкви, живший в XVI веке), "когда Господь говорит сам, добавить нечего". Ничего более о Логосе не может быть сказано. Он между нами во всей полноте, и у Бога нет ничего более великого, что он мог бы дать или сказать нам, чем Он Сам.
( Read more... )
Если мы посмотрим на историю Церкви, станет ясно, что многие из пророков-мистиков были женщинами. Это очень интересный факт, способный помочь в дискуссии и женщинах священниках. Что вы думаете об этом?
РАТЦИНГЕР: В древней святоотеческой традиции Марию называют не священницей, но пророчицей. Титул пророчицы в святоотеческой традиции есть высший титул Марии. В Марии есть то, что дает точное определение тому, что есть в действительности пророчество - та сокровенная способность слушать, постигать, чувствовать, которая позволяет человеку ощутить утешение Духа Святого, принять Его в себя, обрести Его плоды, претворяя эти плоды в слово. Можно сказать, в каком-то смысле, без претензий на категоричность, что ни одна другая история, кроме истории Марии, не представляет пророческий аспект в Церкви. Мария всегда рассматривалась Отцами Церкви как архетип Христианского пророка, и именно от нее исходит пророческая линия, позже возникающая в истории Церкви. Сестры великих святых также принадлежат к этой линии. Святой Амвросий своей духовной стезей, которую он предпринял, во многом обязан своей святой сестре. В сходных обстоятельствах находились Василий, Григорий Нисский, и Св. Бенедикт.
Двигаясь дальше, в позднем Средневековье мы встречаем несколько великих женских фигур, среди которых следует выделить Франческу Роману (Francesca Romana). В XVI веке Тереза из Авилы (Teresa of Avila) сыграла решающую роль в жизни Иоанна Креста и, в более широком смысле, во всем процессе возрастания веры и благочестия. Женская пророческая линия обладает огромной значимостью в истории Церкви: Екатерина из Сиены и Бригитта Шведская могут служить тому иллюстрацией. Они обе обращались к Церкви, в которой существовала апостольская коллегия и где совершались таинства. Главной причиной их обращения была актуальная на тот момент угроза упадка, вызванного внутренними раздорами. Они пробудили Церковь, возродив ценности Евангельского единства, смирения и отваги, придав новые силы процессу евангелизации.
Вы сказали, что абсолютная безусловность - не означающая, впрочем, окончательности - Откровения, данного в Христе, не распространяется на предмет нашей беседы, т.е. на пророчества. Это утверждение крайне интересно в контексте темы Христианского пророчества. Возникает законный вопрос - в истории Церкви до какой степени принципиальной новизны пророки могли доходить в своих словах, касающихся непосредственно богословия. Мне кажется, большинство последних великих догматов можно напрямую связать с откровениями великих святых-пророков, таких как Катерина Лабуре, если говорить о догмате Непорочного Зачатия. Эта тема очень скромно затронута в богословских трудах...
РАТЦИНГЕР: Да, эта тема еще ждет глубокого исследования. Кажется, фон Балтазар обращает внимание на то, что каждому великому богослову предшествовал пророк. Августин немыслим без встречи с монашеством, особенно с Антонием. То же можно сказать про Афанасия. Фома Аквинский непостижим в отрыве от Доминика, без его харизмы евангелизации. Вчитываясь в его труды, замечаешь, насколько для него была важна эта тема. Она играет важную роль в его диспуте с секулярным клиром и с Парижским Университетом, где он повествовал о своем жизненном пути. Он сказал, что подлинное правило его Ордена было обнаружено в Святом Писании, что оно утверждается четвертой главой Деяний Святых Апостолов ("У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа") (13) и десятой главой Евангелия от Матфея (возвещать Евангелие, не ища ничего для себя лично) (14). Для Фомы это было правилом правил. Всякая форма монашества может быть воплощением этой изначальной модели, естественным образом происходящей из природы апостольства, но в фигуре Доминика открылся новый путь для ее реализации.
( Read more... )
В Символе веры Святой Дух определяется словами "говоривший через пророков". Означает ли слово "пророки" только тех, кто упомянут в Ветхом Заветет, или это также относится к фигурам Нового Завета?
РАТЦИНГЕР: Чтобы ответить на этот вопрос, следует пристально изучить историю Никео-Константинопольского Символа Веры. Несомненно, в нем содержится отсылка только к пророкам Ветхого Завета (обратите внимание на прошедшее время слова "говорившего"), тем самым, по сути, явно вскрывается пневматологический аспект Откровения. Святой Дух предшествует Христу и приготовляет путь для Него, дабы затем всем людям была открыта истина. Существуют различные Символы Веры, в которых этот аспект явно просматривается. В традиции восточной Церкви пророки рассматриваются как средство приуготовления, используемое Святым Духом для своего постепенного раскрытия, Святым Духом, говорившим через пророков еще до прихода Христа, со времен первого человека. Я убежден, что в первую очередь акцент падает на тот факт, что именно благодаря Святому Духу Христос обретает возможность быть зачатым ex Spiritu Sancto (от Духа Святого). То, что произошло с Марией посредством деяния Святого Духа (ex Spiritu Sancto), есть событие, давно и тщательно приуготовлявшееся. Мария восприняла в себя всю полноту пророчества, как постепенного раскрытия Духа. Происхождение всех пророчеств ex Spiritu Sancto в тот момент сконцентрировалось в ней посредством Зачатия Христа. На мой взгляд, это не исключает скрытую возможность того, что Христос каждый раз зачинается заново ex Spiritu Sancto. Сам Святой Лука выстроил историю детства Иисуса на параллели со второй главой Деяний Святых Апостолов, которая повествует о рождении Церкви. В кругу двенадцати апостолов, собравшихся вокруг Марии, происходит conceptio ex Spiritu Sancto (зачатие от Духа Святого), и оно свершается вновь в рождении Церкви. Поэтому можно сказать, что, если текст Символа Веры относится только к Ветхозаветным пророкам, это не означает, что постепенное раскрытие Святого Духа можно считать завершенным и состоявшимся.
Последним пророком часто называют Иоанна Крестителя? Каково ваше мнение на этот счет?
РАТЦИНГЕР: Полагаю, тому есть несколько важных причин. Одна из них - слова, произнесенные Иисусом: "ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна" (15); после чего придет Царство Божье. Здесь сам Иисус провозглашает Иоанна некой завершающей фигурой и говорит о том, что за ним следует некто, кажущийся менее значимым, но в действительности больший в Царстве Божьем, кем, собственно говоря, является сам Иисус (16). Эти слова оставляют Крестителя в рамках Ветхого Завета, но как таковой он представляет ключ к двери Нового Завета. В этом смысле Креститель - последний Ветхозаветный пророк. Надлежащее понимание миссии Иоанна, последнего перед Христом, состоит в том, что он - тот, кто несет пламя всего пророческого движения и вручает его Христу. Вручает в завершение всего, что было сделано пророками, чтобы во Христе пришла в мир надежда. Таким образом, он завершает труды пророков в Ветхозаветном смысле. Важно определить, что сам по себе он является не прорицателем, а только лишь тем, кто пророчески зовет людей к обращению, преображению, тем, кто таким образом обновляет и оживляет Мессианские обещания Ветхого Завета. О Мессии он говорит: "стоит среди вас Некто, Которого вы не знаете" (17). Даже если это заявление не содержит предсказания, Иоанн остается верен пророческой традиции не предсказывать будущее, а возвещать, что пришло время обращения, преображения. Призыв Иоанна приглашает Израиль посмотреть на самого себя и обратиться, дабы узнать в час спасения, Того, Кого Израиль ожидал во все времена, и кто ныне находится здесь. Иоанн таким образом олицетворяет последних пророков прошлого и, кроме того, особое постепенное проявление надежды в Ветхом Завете, что придет вместе с другим типом пророчества. В силу этого Креститель может быть назван последним пророком Ветхого Завета. Однако это не означает, что на нем пророчества прекратились. Ибо это противоречило бы учительству Святого Павла, говорящего в Первом Письме к Фессалоникийцам: "Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте" (18).
В определенном смысле существует разница между пророчеством Нового и Ветхого завета в силу того факта, что в историю входит Христос. Но если посмотреть на саму суть пророчества, которое внушает Церкви Слово, услышанное от Бога, то кажется, что разницы никакой и нет...
РАТЦИНГЕР: Да, различие существует при, фактически, общей базовой структуре. Разница состоит в отношении к Христу, как к Тому, Кто грядет, к Тому, Кто уже пришел или же к Тому, Кто должен вернуться. В этом причина того, что время Церкви в структурной плоскости подобно Ветхому Завету, или как минимум очень на него похоже, и по этой же причине оно достойно быть и далее еще более тщательно изучаемым.
В богословии нередко отмечают тенденцию к радикализации различий между Ветхим и Новым Заветами. Такой способ преподнесения различий часто выглядит искусственным, основанным на абстрактных принципах и противоречащим фактической стороне вопроса...
РАТЦИНГЕР: Радикализация различий без желания видеть глубинное единство истории Бога и человечества - это ошибка, которой избегали Отцы Церкви. Они выдвигали трехчастную схему - "umbra, imago, veritas" (Прим. пер.: имеется в виду древний тезис "umbra in Lege, imago in Evangelio, veritas in Coelestibus", т.е. "тень, прообраз в Законе, образ в Евангелии, истина на Небесах"), в которой Новый Завет есть imago. Таким образом, Ветхий и Новый Заветы не противоположны друг другу как тень и реальность, но в троичной системе "тень-образ-реальность" ожидание окончательного исполнения поддерживается в живом активном состоянии, и время Нового Завета, время Церкви выглядит как неявный этап, хотя и более выраженный по сравнению с предыдущим, но все еще представляющий собой путь обетования. Это тот пункт, который до настоящего времени не был проработан в достаточной мере. Отцы Церкви усиленно подчеркивали посредническую природу Нового Завета, в котором еще не все обетования исполнены. Христос пришел во плоти, но Церковь еще ожидает Его окончательного Пришествия в славе.
Возможно, это еще одна причина того, почему духовность многих пророческих фигур несет на себе знак эсхатологичности...
РАТЦИНГЕР: Думаю (отбрасывая сразу всяческие безумные увлечения апокалипсическими мотивами), что это сущностно связано с природой, естеством пророчества. Пророки - это те, кто обнаруживает в Христианстве аспект надежды, упования. Они - каналы доступа к тому, что еще только должно произойти, и, таким образом, они позволяют нам двигаться вне времени, чтобы постичь нечто существенно важное. Этот эсхатологический характер, этот толчок к движению вне времени является весомой частью пророческой духовности.
Если мы связываем эсхатологию с надеждой, картина полностью меняется. Теперь это уже не внушающее страх послание, но нечто, открывающее перед нами перспективу, где исполняется вся обетованная Христом полнота творения ...
РАТЦИНГЕР: То, что Христианская вера не внушает страх, а преодолевает его - это основополагающий факт. Этот принцип должен составлять базис нашего свидетельства и нашей духовности. Однако давайте вернемся к моменту, который мы затронули раньше. Чрезвычайно важно определить, в каком смысле Христианство является исполнением обетования, а в каком смысле - не является таковым. Я убежден, что существует тесная связь между нынешним кризисом веры и недостаточным прояснением этого вопроса. Здесь таятся три внутренних опасности. Первая состоит в том, что обетования Ветхого Завета и ожидание спасения человеков проявляются только имманентно, только в новых и лучших структурах или в превосходящей плодотворности. Понимаемое таким образом, Христианство неизбежно проигрывает. Из этих предпосылок возникали попытки подменить Христианство идеологией веры в прогресс, а позже идеологией мечтаний, которая представляет собой всего лишь вариацию на тему марксизма. Вторая опасность состоит в стремлении видеть в Христианстве нечто, ассоциирующееся исключительно с пакибытием, чем-то чисто духовным и индивидуальным, и таким образом отвергающее совокупность человеческой реальности. Третья опасность, особенно значимая во времена кризиса и в поворотные периоды истории, - стремление находить убежище от реальности в увлечении апокалипсическими мотивами. В контексте противостояния всему этому все более и более актуальной становится проблема доступного и жизнеспособного изложения аутентичной структуры обетования-исполнения, содержащейся в Христианской вере.
Нередко отмечается значительная натянутость отношений между чисто умозрительным, апофатическим мистицизмом и мистицизмом пророческим, мистицизмом слов. Карл Ранер (19) отмечал эту напряженность между двумя видами мистики. Некоторые утверждают, что умозрительная и апофатическая мистика более возвышенная, более чистая и духовная. Некоторые высказывания Иоанна Креста толкуются в этом ключе. Другие полагают, что апофатическая мистика, при окончательном рассмотрении, оказывается чуждой Христианству, ибо Христианство, по сути своей, есть религия Слова (20).
РАТЦИНГЕР: Да, я бы даже сказал, что подлинно Христианский мистицизм обладает также и миссионерским измерением. Он стремится не просто возвысить личность, но берет на себя задачу привести ее к контакту в Духе со Словом, с Христом, с Логосом. Этот пункт наиболее выражен у Фомы Аквинского. До Фомы говорилось: монах прежде всего и во всем есть мистик, а священник прежде всего и во всем - богослов. Фома не принимает этот тезис, потому что мистическое предназначение реализуется в активной миссии священников. И активная миссия не является низшей ступенью, как, в противоположность тому, думал Аристотель. Он полагал, что высшая ступень есть интеллектуальное умственное созерцание, за которым не следует уже никакой другой формы деятельности. Это не христианская концепция, говорит Фома, потому что совершеннейшая форма жизни - смешанная, т.е. сочетающая созерцательный мистицизм и активную миссию в Евангельском служении. Тереза из Авилы очень ясно изложила эту концепцию. Она связывает мистицизм с христологией, присваивая ему, таким образом, миссионерский характер. При этом я не стремлюсь исключить возможность того, что Господь может вдохновлять христианских мистиков, не наделенных никакой активной миссией в рамках Церкви; но я хотел бы выделить, что христология, как основа и мера всего христианского мистицизма (Христос и Святой дух неразделимы), свидетельствует о другой структуре. Бытие Иисуса Христа "лицом к лицу" с Отцом подразумевает его "бытие ради других", содержащее в себе "бытие ради каждого". Если мистицизм по сути представляет собой вхождение в общинное бытие с Христом, то это "бытие для" подразумевается само собой.
Многие христианские пророки, такие как Екатерина из Сиены, Бригитта Шведская или Фаустина Ковальска приписывают свои пророчества откровению от Христа. Богословие часто определяет эти откровения как откровения частные. Но такой термин представляется уничижительным, ведь пророчество всегда адресовано всей Церкви и никогда не бывает исключительно частным...
РАТЦИНГЕР: В богословии понятие "частный" не означает "относящийся только к одному отдельно взятому человеку и никому более". Скорее, это выражение степени значимости, как в случае с "частной Мессой". Это означает, что "откровения" христианских мистиков никогда не смогут претендовать на уровень библейского Откровения; они могут только вести к нему, и им они должны измеряться. Однако это не означает, что эти виды откровения неважны для Церкви в своей полноте. Лурд и Фатима - подтверждение их значимости. В конечном счете, все они апеллируют к библейскому Откровению, и потому чрезвычайно важны.
История Церкви показывает, что пророческое призвание никогда не обходится без того или иного ущерба для пророка. Как бы вы объяснили эту дилемму?
РАТЦИНГЕР: Так было всегда. Пророческий импульс не может прийти без соответственного страдания. Призвание пророка, в определенном смысле, - подражание страданию: он должен быть готов страдать, и участие в страданиях Христа, разделение с Ним Его креста, есть подлинное мерило пророческого призвания. Он не стремится полагаться на себя. Его послание подтверждается крестом и плодоносит только в кресте.
Тяжко видеть, что многие из пророков, появлявшихся в Церкви, были отвержены при жизни. Критика и отторжение кажутся почти неизбежными. Это участь большинства христианских пророков и пророчиц...
РАТЦИНГЕР: Да, это правда. Игнатий Лойола был заключен в тюрьму. То же случилось с Иоанном Креста. Бригитта Шведская едва не была осуждена на Базельском Соборе. Однако традиционно Конгрегация Доктрины Веры крайне осторожна в делах, предполагающих элемент мистики. Подобное отношение более чем оправдано, т.к. существует огромное количество шарлатанов, многие случаи носят патологический характер. Крайне критическое отношение, таким образом, необходимо, дабы исключить любой риск попасться на удочку желающих сотворить вокруг себя сенсацию или жертв суеверий и предрассудков. Мистическое появляется в страданиях, в послушании и в готовности к лишениям. Время движется вперед, и этот голос оскудевает. И Церковь, постольку, поскольку это в ее интересах, должна быть крайне осмотрительна и не "убивать пророков" (21), если она не желает навлечь на себя упреки.
Примечания:тут
19 " ... действительно, с некоторым преувеличением можно было бы сказать, что история мистического богословия есть история переоценки пророчествования благодаря переоценке чистого 'вдохновленного свыше созерцания' " (K. Rahner, цитировавшаяся работа, стр. 21).
20 "Следует сказать, что в определенном смысле двойственное единство Бога и "знамений" визионера, единство, которое в знамениях обретает историческую природу, более соотносится с фундаментальной сущностью Христианства, понимаемой как чистый "мистический союз", лишенный каких-либо образов и перед которым всегда встает старая проблема, если это почитание чистого трансцендентного в Духе сообразно Христианству"
Победа или поражение?
6 Oct 2015 16:48

Хорошо сказано в записи "Победа или поражение?"
"Многие сейчас пишут о заслугах и победе о. Александра Меня. Пишут справедливо и правильно, но я хочу больше о его поражении, потому как в главном его деле , победы нет. Он проповедовал так, как только и можно честно проповедовать после известной « смерти Бога» и всего того, что за этим последовало. Противопоставить смерти Бога можно только Бога как любовь, ведь что ещё выше смерти?
Уже из этого - слово о Христе, потом о церкви, потом уже о православии и его традиции. Пожалуй, только о. Александр внятно смог это показать в России накануне освобождения церкви от внешних оков и начала «церковного возрождения» Само это возрождение пошло иным, противоположным путём, начиная с традиций, и …. Заканчивая в лучшем случае церковью; до Христа, а уж тем паче до любящего Бога не доходя.
Мнимая традиционность взяла верх, кто шёл другим путём обречён был стать маргиналом. Отец Александр проиграл свой главный бой, ведь воцерковление, проповедь, пресловутая катехизация пошли совершенно иным, чем он думал, путём (исключения подтвердили правило). Ну а теперь пошёл закономерный откат, люди поняли, что им предложили вместо любящего Бога – мульку традиции с главенством « смирения и послушания». Расцерковление, как и появление деструктивных, агрессивных движений внутри русской церкви, стали закономерным результатом «церковного возрождения».
Всё это напоминает саму трагическую кончину о. Александра. Смертельно раненный и обессиленный, он дополз до дома, но калитку открыть не смог, а супруга испугалась, не вышла…
Но это нормально. У хорошего, правильного человека жизнь часто заканчивается крахом в земном измерении, перефразируя покойного о. Михаила Шполянского, причем не только личным крахом, но и часто и крахом дела. Достаточно привести примеры митр. Антония и о. Павла Адельгейма , хотя можно уйти и в глубь истории. Дерево не вырастет, если семя не умрёт , задохнувшись в земле."
Смелая любовь
1 Oct 2015 01:29В Подмосковье прошли дни памяти отца Александра Меня

Раскрыть убийство отца Александра не удалось. В голову почему-то лезут банальности: если бы в наш век видеокамер… Но не повесишь же видеокамеру на каждую ель и березу…
На месте, где отец Александр был убит, неизменно стоит вскоре поставленный сыном и племянником знак с надписью "Здесь принял мученический венец…!". Михаил Мень, сын священника, теперь известный политик, министр, вспоминает, как они с братом ставили его здесь вдвоем под дождем. И признается, что год после убийства жил с чувством вины - почему я не провожал его в тот раз…
И не сокрытость зла, а раскрытость добра сразу становится главным мотивом встречи, которые проходят тут каждый год - 25 лет. Каждый год сюда приезжает владыка Ювеналий, ровесник о. Александра по годам и его первый защитник (как правящий архиерей) от притеснений власти. За пять минут до появления владыки и приветствующего его живописного колокольного звона вдруг выглянуло солнце, и вот уже в клочки разорван привычный осенний рецепт кислого дождливого дня. Солнце, хрустальный воздух и чуть дрожащая листва - в природе что-то иконное.
Сразу вспоминаются слова отца Александра из уже раза два или три просмотренного нами документального фильма, где он говорит, что душа встречается с Богом в творчестве, любви и общении с природой. И чувствуешь, да, встречается, в эту минуту тишины… И даже в зал культурного центра "Дубрава", где торжественно презентуется первый том его пятнадцатитомного, благословленного Патриархом к изданию, собрания сочинений, влетает тихая и прекрасная, отражающая Бога природа - и докладчик чуть растерянно говорит "Здесь в зале летает бабочка…"
Отец Александр Мень - фигура, к которой испытываешь неизменную благодарность, возвращается к нам в этот день, во-первых, в своей безграничной широте. Православные, католики и протестанты, русские, англичане, французы, поляки, светские и религиозные люди на открывшихся традиционных "меневских чтениях" объясняются в любви и интересе друг другу, как будто их не разъединяют границы. "Вы видели возле дома о. Александра киот, который сделал Ежи Устинович"?- спрашивает журналист Сергей Чапнин, и мы тут же идем смотреть на работу известного польского православного архитектора.
Отец Александр объединяет столь разных людей, часто приписанных к спорящим друг с другом "ведомствам", не потому, что экуменист и выше этих, в общем, нешуточных разногласий, а потому что так вдохновенно и смело любил Бога и людей, что в свете этой большой и взыскательной любви неловко путаться в сложных одеждах привычек.
- Докладчики вспоминают Николая Бердяева, митрополита Антония Сурожского, недавно умершую Екатерину Гениеву, собеседники в кулуарах рассказывают байки о невероятной источниковедческой базе книг о. Александра: "Ему знакомые знакомых на одну ночь тайком доставали книги из архивов ЦК КПСС и КГБ. Он говорил, спасибо, я за ночь успею выписать, что надо…".
Отец Александр возвращается к нам в своем незабываемом облике радостного, умно-вдохновенного, красивого человека большой христианской культуры и культуры вообще. Его самая знаменитая, переведенная на 16 языков книга "Сын человеческий" - культурное воскрешение исторических обстоятельств жизни Христа. В нем жизнь Иисуса Христа как будто внутри фильма или романа - но только не фантазийного, а документального, исторически безупречного. Отец Александр - не модернист, не популяризатор, а невероятный "приблизитель" для верующих главного, но далекого события мировой истории буквально к нашим современным глазам.
Недаром к вечеру группа Стаса Намина исполняла для собравшихся почтить его память знаменитую рок-оперу "Иисус Христос - суперзвезда". Это прекрасная опера - тоже невероятное культурное приближение к современному человеку евангельских сюжетов. Опера звучала на английском - именно на языке оригинала слушал ее о. Александр, и это была его "любимая вещь". Но пусть искус легких ассоциаций не соблазняет далеких от Церкви людей думать об о. Александре Мене как о модернисте, священнике, мечтающем выходить на амвон с гитарой. Нет, только с причастной чашей и проповедническим словом.
Отец Александр Мень - человек, и спустя 25 лет никого не соблазняющий ни на какую дурь, ересь или бунт. Только прямой путь к Богу, восхитительный в своем культурном совершенстве. И возник этот путь не на голом месте - его уверовавшая мать Елена Семеновна (удивительной библейской красоты женщина) крестила сына тайно в избушке, где жил священник, семья знала старца архимандрита Серафима (Битюгова), владыку Афанасия (Сахарова).
Ну и светских знаменитостей в более поздние времена в доме Меней перебывало немало. На выходе из заставленного книгами кабинета священника пресс-секретарь Михаила Меня рассказал мне, что самое сильное впечатление на его босса произвела гостившая в доме Надежда Яковлевна Мандельштам: "Представляете, она гоняла его за Беломором". "И подолгу сидела в беседке, вон там, с другой стороны дома", - уточняет смотритель.
25 лет как отца Александра нет, а его духовные чада все приезжают пройтись в тишине по его "тропинке" - той самой, по которой он возвращался в последний раз - в крови. Говорят, что мысли и душа здесь успокаиваются, приходит ясность, что делать - и это уже форма почитания его. Я ходила, и - да, торговля мыслей замолкала, и внимание тянулось к небу, тишине, чистому покою.
http://www.rg.ru/2015/09/11/men.html

Александр Мень о святых отцах
Отец Александр сам был человек святоотеческого духа, и, мне кажется, увидеть параллели между великими церковными деятелями прошлого и нашим современником такого же масштаба - и по силе веры - и по горению Духа, всем будет интересно и поучительно.
«Он православный священник, укорененный в русской культуре. У него ориентиры иные, чем у западных авторов. Столпы его творчества – святые отцы восточной Церкви», читаем мы в предисловии к французскому переводу «Сынa Человеческoго».
**
Христианство и империя
Лекция
**
Из книжки Пути христианства*
11.Первая христианская империя
Император Константин Великий (ок.274-337)
Символ веры
Арианство и первые Вселенские Соборы
Василий Великий (ок.330-379)
Григорий Богослов (330--389)
12.Христианство и мир
Латинское христианство
Амвросий Медиоланский (340-397)
Блаженный Иероним (ок.348-ок.420)
Восточное христианство
Иоанн Златоуст (ок.347--407)
13.Монашество
Восточное монашество
Антоний Великий (ок.250 - 356)
Пахомий Великий (ок.290-346)
Распространение монашества
Ефрем Сирин (ок.306-ок.373)
Крайности аскетизма
Западное монашество
Иоанн Кассиан (ок.360-435)
Мартин Турский (ок.335-397)
Значение монашества
15.Развитие христианской философии и богословия
Классическая культура и Церковь
Григорий Нисский (ок.330--ок.395)
Александрийская школа
Антиохийская школа
16.На рубеже эпох
Крах западной Римской империи
Блаженный Августин (354--430)
Эфесский и Халкидонский Соборы
17.Западное христианство в эпоху раннего средневековья
Благовестие нехристианским народам
Двоеверие варваров
Св.Бенедикт Нурсийский (ок.480 - ок.543) и западное монашество
Григорий Великий (ок.540 - 604)
20.Христиане под мусульманским владычеством
Исаак Сирин (ум. около 700 г.)
Св.Иоанн Дамаскин (ок.675 - ок.749)
21.Иконоборческая ересь
Вселенский Собор (787 г.). Окончательная победа Православия
**
из Библиологического словаря
Иоанн Кассиан Римлянин
Никодим Святогорец
Симеон Новый Богослов
Феофан Затворник
свт. *Климент Римский
сщмч. *Игнатий Антиохийский,
сщмч. *Поликарп Смирнский
св. *Иустин Мученик
свт. *Феофил Антиохийский
свт. *Ириней Лионский
свт. *Мелитон Сардийский
*Климент Александрийский
сщмч. *Мефодий.
свт. *Ипполит Римский
сщмч. *Лукиан,
блж. *Феодорит Киррский
прп. *Исидор Пелусиот
свт. Афанасий Александрийский
свт. Василий Великий
свт. Григорий Богослов, Назианзин
свт. Григорий Великий Двоеслов
свт. Григорий Неокесарийский, чудотворец
свт. Григорий Нисский
свт. Иоанн Златоуст
прп. *Ефрем Сирин,
свт. *Амфилохий Иконийский
свт. *Епифаний Кипрский.
блж. *Иероним
свт. *Иларий Пиктавийский
свт. *Амвросий Медиоланский
блж. *Августин
Святоотеческая экзегеза
**
Из книги ПУТИ ЦЕРКВИ (Москва, 2013)
ждём оцифровки
**
Проповеди, посвящённые памяти:
Священномученика Дионисия Ареопагита
Преподобного Андрея Критского
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца
Святителя Амвросия, епископа Медиоланского
Филиппа Митрополита Московского
Святителя Филиппа, Митрополита Московского (иная)
Преподобного Ефрема Сирина
Перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца
Блаженного Августина
Святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца
( Об авторе )
«Кончина отца Александра трагична и славна одновременно…»
о.Георгий Кочетков: Сегодня, в день 25-летия со дня убийства отца Александра Меня, размышляя о трагических событиях тех лет, я понимаю, что мы с отцом Александром были не просто знакомы, но хорошо знакомы, были даже во многом близкими людьми — прежде всего в духовном плане. Наверное, тогда, 25 лет назад, я бы не решился таким образом определять наши отношения, но сегодня, когда я все больше и больше возвращаюсь к тому, о чем мы тогда спорили и что обсуждали, я все лучше вижу, что мы были очень близки.
Мы познакомились с отцом Александром еще в середине 70-х годов и много раз общались, начиная со встречи у отца Аркадия Шатова (нынешнего епископа Пантелеимона). Чем дальше, тем больше мы общались. В второй половине 80-х годов мы виделись регулярно — каждый месяц он меня приглашал к себе в гости, вместе с другими священнослужителями, которые, как считал отец Александр, разделяли его путь, его направление жизни, его взгляды или хотя бы были близки к ним — ведь никто не был обязан соглашаться со всем. И я, может быть, не полностью разделял позицию отца Александра, и поэтому у нас всегда были интересные дискуссии. Но главным основанием для наших встреч было единство по всем фундаментальным вопросам нашей церковной жизни, и именно это единство дает мне основание говорить, что между нами были не просто добрые дружественные отношения, но что-то безусловно большее. Причем, собирая этот круг общения, отец Александр был очень сдержанным и деликатным — он прекрасно понимал, что люди в церкви собираются настолько разные, что если сейчас начать что-то формулировать, то можно нарваться и на непонимание, и на открытые разногласия, которых и без того было очень много в церковной среде. Он умело обходил эти разногласия, показывая нам пример. С ним можно было спорить, и он всегда очень благородно выслушивал оппонентов, достойно отвечал им. Он был человеком, который многое видел наперед. Именно потому я, вспоминая, как выступал отец Александр, как он собирал церковь, преисполнен к нему восхищения и уважения.
День убийства я и сегодня помню во всех подробностях. Я был дома. Мне позвонили и сообщили, что произошло, что отец Александр умирает.
А в день погребения, 11 сентября, на Праздник усекновения главы Иоанна Предтечи, я служил панихиду в Троицком храме города Электроугли. И я сказал проповедь, которая мне настолько врезалась в память, что я и сегодня ее помню дословно, что для меня вообще-то редкость. Я сказал, что это убийство никогда не будет раскрыто, что вариантов заказчиков немного, но они все такие, что убийца никогда не будет найден. Тогда же я сказал, что теперь на передовой будем все мы. Отец Александр вольно или невольно прикрывал нас всех, принимая удары на себя — удары и от органов, и от церковных фундаменталистов, и от еврейских националистов. А теперь на передовой будем все мы. И это сбылось, и 25 лет назад родились наши братства — и Преображенское, и Сретенское. Появился Свято-Филаретовский православно-христианский институт, ставший с самого первого дня работы мишенью для всякого рода антицерковных ударов. То же самое значительно позже было и с отцом Павлом Адельгеймом. В последние годы отец Павел выглядел в сознании церковной общественности как фигура номер один, которая принимала на себя все удары антицерковных сил.
Ныне же я оцениваю кончину отца Александра как трагическую, но и как славную одновременно. Трагична она потому, что на русской земле убили выдающегося священника, не просто попа, который помахал кадилом и всё — как говорили в семинарии, «паки и паки и семьсот рублей в кармане». Его смерть была неожиданной, как неожиданно всякое злодейство. Но славной она стала по той причине, — и это нельзя отрицать, и я думаю, что даже его враги не будут это отрицать — что отец Александр умер за Христа. Он умер не по поводу тех или иных разногласий, касающихся экуменизма, отношения к иудеохристианству или каких-то иных претензий, которые ему в те годы предъявляли, нет. Прежде всего отец Александр служил Христу. И свидетельствовал о Христе — не только всей своей жизнью, но и своей смертью."
Валерий Ларионов:
"Вот, Он лежит, Знамение, о Котором будет спор, чтобы через Него многие во Израиле пали, и многие встали, - /От Луки 2:34/ Старец Симеон Богоприимец говорил эти слова о Христе, но конечно их можно отнести ко всем настоящим служителям Христа и Его Церкви. Именно таким и был отец Александр, поэтому даже через 25 лет после ухода его жизнь и дело вызывают интерес и благодарность у всех живых сил, но и "шипение и скрежет зубовный" у фундаменталистов. Спасибо Вам, дорогой отец Георгий, за воспоминание об этом удивительном служителе Божьем.
www.ogkochetkov.ru/blog/detail/konchina-otca-aleksandra-tragichna-i-slavna-odnovremenno-2/














